- Услуги
- Цена и срок
- О компании
- Контакты
- Способы оплаты
- Гарантии
- Отзывы
- Вакансии
- Блог
- Справочник
- Заказать консультацию
Заказать консультацию
Новая экономическая социология (М. Грановеттер)
Одним из самых популярных и влиятельных направлений в современной экономической социологии в конце 1980-х — начале 1990-х гг. становится так называемая «новая экономическая социология». Как уже отмечалось, в 1970-е гг. возникла некая заминка в развитии экономической социологии: получив первый импульс в 1950-х гг., благодаря работам Т. Парсонса, и продолжив движение в 1960-х гг., главным образом благодаря Смэлсеру, к 1970-м гг. стало ясно, что структурно-функциональная парадигма в экономической социологии не устраивает слишком многих, своеобразной реакцией на кризис структурного функционализма в конце 1960-х—1970-е гг. (причем не только в экономической социологии, но и в других областях социологического знания), стало распространение неомарксизма (что в экономической социологии было представлено работами Валлерстайна и Стинчкомба) или социокультурных исследований (Зелизер).
Но было и другое движение в ответ на освободившуюся теоретическую нишу — это широкомасштабное распространение «экономического империализма». С одной стороны, экономисты (Г. Беккер, Г. Таллок и др.) успешно применяли неоклассические экономические модели к анализу и объяснению социальных явлений. С другой стороны, неоинституционализм (Уильямсон, Норт и др.) претендовал на социальное объяснение экономических институтов. Смэлсер и другие представители структурно-функционального направления экономической социологии никак не реагировали на это новое «наступление» экономистов на социологию. Несмотря на декларируемую интеграцию экономического и социологического знания, парсоновская традиция нисколько не озаботилась тем, чтобы разговаривать на одном языке с экономистами. Экономика и экономическая социология развивались как бы параллельно. Вот в такой обстановке и появилась «Новая экономическая социология» как своеобразный ответ экономическому империализму.
Отличие новой школы от старой американской экономической социологии — в том, что она оперировала одинаковыми понятиями с экономистами и сочла возможным спуститься с глобального теоретического уровня парсоновских обобщений до уровня микроэкономического и микросоциального анализа. Новая экономическая социология, кроме того, не была аморфной, она, наоборот, резко критиковала экономический подход, чем, собственно, и привлекла к себе внимание. Отличалась новая экономическая социология и в методологическом подходе — структурный функционализм здесь подвергается критике. Грановеттер, один из лидеров новой экономической социологии, в традиции «Хозяйства и общества» Парсонса считает необходимым поменять местамислова, он предлагает “Society and Economy” как лозунг нового направления, подчеркивая интеграцию экономического в социальное. Но противопоставляется структурно-функциональному анализу, впрочем, нечто неопределенное — с одной стороны, новая экономическая социология берет на вооружение теорию социальной включенности (embeddedness) экономики К. Поланьи, с другой — речь идет о социальном конструировании экономических институтов (по аналогии с социальным конструированием Бергера и Лукмана); с третьей стороны, одним из главных методологических инструментов становится сетевой подход (предполагается, что есть сеть социальных отношений, в нее вложены экономические институты). Но, несмотря на такой методологический коллаж, новая экономическая социология представляет собой существенно новый и важный шаг по сравнению со структурно-функциональным направлением — она открывает новые перспективы и плоскости, доступные для экономико-социологического исследования, и привлекает к ним внимание как социологов, так и — что особенно важно — экономистов.
Зарождался подход новой экономической социологии еще в 1970-е гг. и, как ни странно, опять в Гарварде. Харрисон Уайт и кружок его молодых коллег (Роберт Экклс, Ричард Лахман, Шварц и др.) и студентов обратились к исследованию различных экономических процессов и объектов, пытаясь найти новые точки зрения. Среди студентов X. Уайта оказался и Марк Грановеттер, который занимался социологическим анализом рынка труда; впоследствии именно ему предстоит стать ведущей фигурой в новой экономической социологии. В 1973 г. Грановеттер опубликовал статью «Сила слабых связей», которая не имела прямого отношения к экономической социологии, но в сжатой форме продемонстрировала методологию сетевого анализа. В 1974 г. Грановеттер в Гарварде опубликовал работу “Getting a job: a study of contacts and careers” («Найти работу: исследование контактов и карьеры»), где доказывал ограниченность традиционного экономического и необходимость социологического анализа рынка труда. Практически это было изложение его докторской диссертации “Changing Jobs: Channels of Mobility Information in a Suburban Population”. Основным инструментом, с его точки зрения, в поиске и получении работы становится сеть межличностных отношений, то есть социальные структуры, с помощью которых человек получает информацию о работе. Грановеттер обращает внимание на то, что более успешно получает работу тот, кто уже поменял несколько мест работы до этого. Причина в том, что при частой смене трудовой деятельности в разных организациях создается сеть знакомств — сам человек знает большее количество людей в разных фирмах, и его знает большее количество людей. Именно эти социальные структуры и способствуют успешному поиску работы. Работодатели и лица, желающие получить работу, не являются абстрактными субъектами, не имеющими никаких личных представлений друг о друге и пользующимися только объективными критериями оценки. Наоборот, при опросе лиц, пытавшихся найти работу, в исследовании самого Грановеттера каждый пятый респондент каким-либо образом знал или был знаком со своим будущим работодателем.
Но не только получение работы, но и продвижение по службе зависит от того, как работник включается в сеть социальных отношений внутри фирмы. Все это указывает, считает Грановеттер, что экономические отношения вложены в сеть социальных отношений, что экономические и неэкономические мотивы переплетены друг с другом. Впоследствии было много исследований, опровергавших подход Граносеттера к рынку труда. Прав был он или нет, не так уж важно. Но начало новому методологическому направлению было положено — сетевой метод заявил о себе. У Грановеттера он прозвучал гораздо более убедительно, чем у его научного руководителя Хариссона Уайта.
Однако социоструктурный и сетевой подход Грановеттера в 1970-е гг. не принес ему большой популярности. Поистине «звездный час» Грановеттера наступил с опубликованием в 1985 г. работы «Экономическое действие и социальная структура: проблема включенности» (“Economic action and social structure: the problem of embeddedness”). Работа сразу получила большой отклик среди социологов и экономистов, на ее основе в 1992 г. Грановеттером был сформирован совместно со Сведбергом сборник «Социология экономической жизни», представляющий своеобразный манифест новой экономической социологии.
В чем же основные идеи новой экономической социологии? Во-первых, Грановеттер трактует экономическое действие как форму действия социального. Традиционно экономическая наука объясняет экономическое действие как действие инструментально-рациональное, а социальное действие — как иррациональное или нерациональное; в этом ее односторонний подход к экономическому действию. Для экономической социологии экономическое действие всегда вложено в социальные структуры — во властные отношения, статусные отношения, этические отношения. В отличие от Поланьи, который считал, что экономические отношения вложены в социальный контекст лишь в докапиталистическом мире, Грановеттер считает, что и в современном мире экономические отношения не полностью отделены от социальных структур; приобретая известную самостоятельность, экономические отношения остаются все же связанными с этими социальными структурами. Во-вторых, социально-экономические действия Грановеттер объясняет с помощью сетевого подхода или социоструктурного метода. Обычно экономическая наука основывается на атомистической концепции общества, а следовательно, и на приоритете индивидуализированных экономических взаимоотношений. Это так называемый «недосоциализированный человек» (“undersocialized man”) в терминах Грановеттера. Но есть и«сверхсоциализированный человек» (“oversocialized man”) классической социологии, который полностью и безоговорочно интернализирует социальные ценности. Грановеттер попытался избежать и той и другой крайности, для него экономическое действие, оставаясь действием отдельной личности, вложено в сеть межличностных отношений или социальных структур. Этим достигается социализация экономического действия, но она достигается не автоматически — сети социальных отношений действуют не так регулярно и не являются обязательными, поэтому возможно отклонение от всеобщего порядка и нарушений баланса отношений.
Сильной стороной новой экономической социологии является критика неоинституционализма. Рассмотрим более подробно, в чем же она заключается. Для Грановеттера неоинституционализм представляется не социальным анализом экономических институтов, а скорее дополнением к обычному неоклассическому анализу. Если для неоклассиков неоинституционалисты слишком резко ломают экономические традиции, то для Грановеттера наоборот — у них нет решительного отказа от традиционного экономического мышления. Грановеттер обвиняет институциональный анализ Уильямсона в неисторичности, а исторический анализ институтов Норта — в экономичности, то есть приверженности только одному экономическому критерию — критерию эффективности. Для неоинституционализма экономические институты существуют только потому, что они обеспечивают наивысшую эффективность экономических отношений, экономические институты как бы возникают для эффективной организации экономики. Грановеттер же настаивает на том, что экономические институты являются скорее результатом социальной, политической, юридической истории, чем чисто экономическими явлениями. Например, часто экономические институты возникают не потому, что экономически эффективны, а потому, что могут оказывать политическое давление — мультидивизиональная структура огромных корпораций в США не так уж эффективна, но с точки зрения политической, с точки зрения господства и подчинения, она оправдана. Экономические институты для Грановеттера не нечто внешнее, а скорее социальные конструкции, они создаются в сознании участвующих агентов и всеми одинаково воспринимаются. Институты — не раз и навсегда данный феномен, а постоянно воспроизводимая социальная конструкция.
В качестве примера различия подходов новой экономической социологии и неоинституционализма Грановеттер приводит проблему разделения рынков и иерархий (организаций), поставленную в 1970-е гг. Уильямсоном. Как известно, последний на основной вопрос, поставленный Коузом: «Почему существует фирма?» —давал совершенно определенный ответ: «Отношения обмена на рынке осуществляются не автоматически, а имеют определенные издержки, называемые трансакционными». Там, где трансакционные издержки невелики (например, при разовых покупках, не требующих специальных капиталовложений и специальной подготовки персонала), действует рынок; там же, где трансакционные издержки значительны, происходит организация экономических отношений в рамках фирмы. Внутри фирмы многие проблемы, трудно разрешаемые в рыночных условиях (возможность обмана, недоступность информации, юридические споры), получают совершенно иной статус, и их решить гораздо легче. Ошибка Уильямсона, с позиции Грановеттера, — в том, что рынок понимается как атомизированный безличный рынок неоклассической экономической науки. В реальности атомизированного рынка нет, экономический обмен всегда персонализирован, то есть вложен в сеть социальных отношений. Это означает, что трансакционные издержки могут и не быть велики в условиях рыночных отношений, но при наличии социальных структур или сети социальных отношений фирмы могут оставаться отдельными участниками рыночных отношений, слияние их в одну фирму необязательно.
Кроме того, не вполне оправдывается и другой постулат Уильямсона, что якобы в рамках структуры фирмы многие проблемы решаются легче, чем на рынке. Любая фирма как бюрократическая структура дифференцируется, и часто подразделения фирмы стремятся к самостоятельному существованию внутри фирмы, а конфликты между ними разрешаются совсем не легко. В другой работе 1994 г., названной “Business groups” («Бизнес-группы»), Грановеттер обращается к исследованию альянсов или организации группировок в деловых кругах.
В противовес основному вопросу Коуза: «Почему существует фирма?» —Грановеттер ставит другой вопрос: «Почему фирмы объединяются в группы?» В чем природа групповой организации бизнеса? Под категорией «бизнес-группа» Грановеттер понимает объединение фирм, связанных формальными и неформальными видами отношений. Однако бизнес-группы невидимы для исследователя, поскольку сеть социальных отношений, объединяющих фирмы, не выставляется для всеобщего обозрения. Но есть и, видимые виды бизнес-групп, это так называемые «маргинальные виды» (или пограничные случаи) — холдинговые организации, картели или тресты.
В неоинституциональной экономике объединения объясняются необходимостью снижения трансакционных издержек, а следовательно, повышением общей эффективности. Подразумеваемая логика такова: выживают только те организационные структуры, которые наиболее всего приспособлены к окружающий экономической среде. Но, как показывает история бизнеса, отмечает Грановеттер, зачастую размер фирмы или объединения фирм зависит не от экономических, а от социальных, политических, внешнеэкономических причин. Так, в обрабатывающей промышленности США размер фирм часто намного больше, чем этого требуют правила оптимальной организации и экономии на масштабах производства.В основе социальной организованности бизнес-групп часто лежат неэкономические критерии — основой объединения могут быть отношения родства (разные фирмы объединяются, поскольку ими владеют члены одной семьи), отношения этничности (объединения фирм, принадлежащих лицам одной этнической группировки, обычно малочисленной в данной стране), отношения принадлежности к иностранному государству (объединения фирм, принадлежащих иностранцам в какой-либо стране), отношения политической принадлежности и др. В смысле властной структуры бизнес-группы могут иметь жесткую вертикальную структуру (по типу патриархальных отношений, примером являются некоторые корейские корпорации) или мягкую горизонтальную структуру (где все участники практически равны, а между ними существует обмен долями акционерного капитала без владения контрольным пакетом акций, такой тип объединений бизнеса характерен для Японии). С точки зрения отношений собственности, бизнес-группы могут быть основаны как на полном или частичном владении акциями компаний, входящих в группу, так и вообще без объединения собственности — там, где величина капитала фирм — участниц объединения относительно мала и нет акционерной организации капрала фирм, нет смысла и объединять собственность (этот случай объединения характерен для текстильной промышленности Италии).
Таким образом, бизнес-группы могут быть разнообразными по своей структуре и видам, отмечает Грановеттер, но связаны отношениями социальной солидарности — сеть социальных структур объединяет их в одно целое. Обычно все компонентные фирмы в группе связаны отношениями доверия и лояльности друг к другу. Бизнес-группы основаны на общей морали, именно она, воспроизводясь сетью социальных отношений, является основой объединения. Фирмы принимают ее не потому, что доверие выгодно в экономическом смысле, но потому, что без отношений доверия не может быть объединения как такового. Итак, подчеркивает Грановеттер, причина объединения фирм в организованные группы не только в экономической эффективности, скорее объединения и альянсы основаны и воспроизводятся сетью социальных структур и неформальных личностных отношений. Таков подход новой экономической социологии к проблеме природы фирмы и объединения фирм; как мы видим, он противостоит неоинституционализму, но между ним и новой экономической социологией нет взаимного неприятия. Наоборот, неоинституционализм признает значимость экономической социологии в объяснении экономических институтов, а новая экономическая социология признает заслугу неоинституционализма в постановке некоторых ключевых вопросов социолого-экономической теории. Не случайно работа Уильямсона “Transactions costs economics and organisation theory” («Экономика трансакционных издержек и организационная теория») включена в «Руководство по экономической социологии» (“Handbook of economic sociology”) Смэлсера и Сведберга.
Статьи по теме
- Россия в современной мировой экономической системе
- Экономическая социология постмодерна
- Современная мировая экономическая система и понятие глобализации
- Современная экономическая система
- Теория капитализма по Шумпетеру
- Теория капитализма по Ф. Бродель
- Теория капитализма по Веберу
- Теория капитализма по Марксу
- Третий подход к изучению капитализма
Полезные статьи


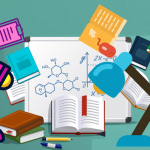






Узнайте цену услуг:
Узнай цену консультации
"Да забей ты на эти
дипломы и экзамены!”
(дворник Кузьмич)

